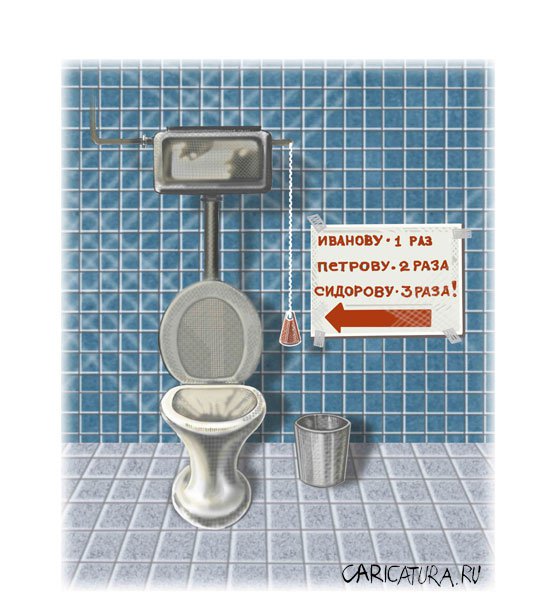Вы жили когда-нибудь в коммуналках?
Сейчас я не могу представить себе, что в дверь сортира может кто-то постучать с требованием вытряхивать свою задницу из помещения. А в кастрюлю, стоящую на плите, может сунуть нос любопытная соседка.
Коммунальных периодов в моей долгой жизни было два. Сначала я была очень маленькая. А коммунальная квартира на четверых хозяев - огромная.
Лучше всего такую квартиру описал Булгаков в «Мастере и Маргарите». Огромный длинный коридор, освещаемый крайне редко, полный странных, волшебных и ненужных предметов. Санки с рейкой, оторванной через одну, канистры с неясными жидкостями, коробки со сломанными игрушками, шкафы с одеждой, которую никто никогда не носил, обувь только на левую ногу, мотки проволоки и шнурков. Велосипед тоже был, детский трехколесный. Дети, случавшиеся в этой квартире, рассекали на велосипеде по коридору, как на гоночном автомобиле, скорость набирая изрядную.
В три года я панически боялась переходов через этот коридор, потому что Сашка, сын соседей справа, рассказал, что за холодильником в нише живет чудовище. Честное слово, я видела, как сверкали из темноты желтые глаза этого монстра.
Хотя сейчас, задним взрослым умом я понимаю, что это мог быть кот соседки слева, полоумной старушки Антонины. Она утверждала, что никогда у нее котов не было и быть не могло, а котов ей подбрасывают изверги-соседи по коммунальному чистилищу. Кот ходил вальяжный, мордастый и упитанный, и тырил с чужих кухонных столов все, что плохо лежало. Поймать его за воровством было невозможно, несмотря на всю его упитанность. Мыши по коридору щемились тоже, но менее нагло.
В самом дальнем углу коридора, тупике-аппендиксе жила семья практически светская. Муж – преподаватель в единственном институте города, жена Любовь - домохозяйка, которая посвящала себя супругу Владимиру и уходу за своей красотой.
Женщина она была, несомненно, красивая. Пользовалась помадой ультракрасного цвета, укладывала волосы вавилонской башней, пахла вкусно и надрывно, горькими осенними цветами.
Грязное белье эта семья интеллигентно оставляла у себя, в тупичке, не ругаясь и не кроя матом окружающих. Что, впрочем, не помешало Владимиру застрелиться из охотничьего ружья, когда мне было пять лет. В силу невыясненных причин.
Красавица Люба, которую муж привез из какой-то дальней глухой деревни, не терялась и вышла замуж за приличного мужчину старше себя лет на пятнадцать, который увез ее на историческую родину, в Москву. И более я о ней ничего не слышала.
Сосед справа, отец Сашки, являлся классическим запойным алкоголиком, со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Строго раз в неделю по пятницам, как представитель пролетариата, твердо знающий свои права, Тихон насинячивался до кабанизма и начинал лупить в двери, которые, по его мнению, годились для выноса.
Владимиру, владельцу охотничьего ружья, и вообще, мужчине в теле, портить двери алкаш не рисковал. Тихоновская жена в дни алкогольного помутниния супруга забирала детей и скрывалась по сердобольным людям. А мы с полоумной старушкой оставались заложниками буйного соседского темперамента.
Самое забавное, двери коммунальных жилых отсеков можно было пробить не просто ногой, а указательным пальцем. Материал – фанерка - был дрянь. Но мужичонка весу был бараньего, а сил – кошачьих. Больше воплей, чем дела. Жена с ним таки развелась. И получила отдельную жилплощадь. А он остался пить и умирать от цирроза печени в этой коммуналке.
Отдельно о старушке. Антонина была самой тихой соседкой из всех нас. Не гонзала по коридору с воплями дикого индейца, не бухала по ночам и не сыпала в чужие чайники стиральный порошок.
Но закидоны свои наличествовали. Например, она любила поставить на плиту огромную кастрюлю с какими-то кипятящимися тряпками. И кипятить их всю ночь, до рассвета, с каким-то жутким вонючим мылом. Ну, или порошок это был такой. За ночь квартира была окутана ароматами мыла и тряпок по самое не могу.
Кастрюлю пытались выключать, но Антонина была бдительна, как лисица над сыром.
Свою любовь к чистоплотности она удовлетворяла еще и ваннами. Кроме нее, в это страшное чугунное коричневое чудовище не рисковал залезать никто.
Последняя банная процедура закончилась плачевно. Старушка решила принять ванну лежа.
Но встать не смогла. И лежала в ванне, пока вода не остыла, на помощь не призывая по понятным причинам. В два ночи в туалет пошел Тихон и услышал из помещения стоны. Поскольку это была не пятница, он был вполне адекватен, но, по рассказам, струхнул. Я бы, услышав ночью жалобные вопли в темном коридоре, бежала бы без оглядки.
Операция по спасению антониновой тушки заняла час. Сначала пытались выловить старуху из холодной воды, но все время роняли, ибо тельце было тяжелое, а женщины не могли взять одновременно за все конечности разом и мешали друг другу.
Когда они ее чуть уже было не утопили, в процедуру вступил разбуженный Владимир. Он выловил Антонину, завернув ее в простыню и унес в комнату.
На следующий день она обвинила Владимира, что он украл кольцо с ее пальца, пока тянул из ванны. Кольцо, тяжелое, обручальное, подаренное каким-то там женихом из прошлых веков, впоследствии нашлось. У Тихона, который втихаря пытался выменять драгоценность на три бутылки водки.
Пойманный с поличным, он клялся и божился, что нашел кольцо под собственной кроватью. Видимо, унесли гномы.
Наша комната была узкой и длинной, как пенал, с окном, выходящий во внутренний двор с арками. Огромные тополя не пускали солнечные лучи в глубину комнаты, но солнце все равно выжигало кусочек плаката, наклеенный на стену у книжной полки. Я даже помню, что было нарисовано на том плакате - море и сосны.
Моя кровать стояла на границе света и темноты, и я все время мечтала, чтобы солнце смогло залезть дальше. Туда, где стоял массивный платяной шкаф – из натурального дерева, а не прессованных опилок, залакированных под благородный дуб.
Я не помню момента счастья более острого, чем минута пробуждения в том коммунальном пенале, когда впереди был целый день. И вся жизнь. А это практически вечность.
И я не знала, что эта вечность преподнесет в подарок - разбитые коленки, найденные пять копеек в песочнице или порванное платье, которое мне купили на день рождения и строго-настрого запретили одевать до этого самого дня рождения.
Нас расселили по отдельным квартирам, когда я пошла в первый класс.
Надо ли уточнять, что без шума и беготни в коридоре, криков за хлипкой стенкой, утренней очереди к туалету мне долго было не по себе.
– Вернемся домой, - просила я маму.
- Мы дома, - отвечала она мне.
Можете ли вы, живущие в отдельно взятом коттеджном и благоустроенно-квартирном раю понять меня ту, семилетнюю? Я, сегодняшняя, уже не могу. Мой дом – моя крепость. Посторонние люди останутся посторонними, за пределами цитадели. Никто мне не выключит свет в ванне и не будет тарабанить в двери по ночам с просьбой открыть для «важного разговора».
Странным образом все эти люди запечатлелись в моей памяти, как мухи в янтаре. Я вижу каждую лапку, каждую прожилку, каждый пузырек воздуха, каждый отпечаток в матово-прозрачной тусклой капле прошлого.
Я часто возвращалась во двор своего детства, который казался мне огромным миром. Но в этом дворе уже не осталось никакой магии.
Перила подъезда, длинные мраморные, полированные нашими животами откосы, больше не были лошадьми. А построенная избушка на курногах, где мы прятались от взрослых, стала смешной выцветшей развалюшкой. Символично, не правда ли?
Следующая моя коммуналка случилась через 15 лет, после вступления в брак. Но это уже совсем другая история.